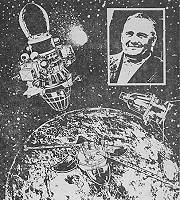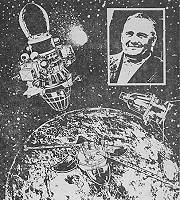ЛУННАЯ ВЕСНА
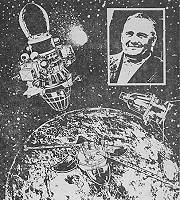
- Бортмеханик открыл дверцу самолета и выбросил лесенку-трап. Я слегка пригнулся, бодро шагнул на верхнюю перекладинку трапа и, пошатнувшись, ухватился за скобу. Ощущение было такое, словно чья-то богатырская рука-кран выхватила меня из холодильника и тотчас сунула в мартеновскую печь. Глотая обжигающий воздух, медленно сошел на раскаленный бетон, встал под крыло самолета, в тень. Взглянул на часы. 13.00 московского времени. Я — на земле Байконура!
- Перевел стрелки часов на два часа вперед и неторопливо оглядел невысокие аэродромные постройки, как бы плывущие в жарком пыльном мареве. Сделав над собой усилие, шагнул под палящее солнце и направился к ближайшему длинному одноэтажному зданию, размышляя о том, как добраться до города: ведь я был единственным пассажиром грузового самолета.
- Но все оказалось неожиданно просто. Навстречу мне спешил худенький невысокий паренек с непокрытой головой. Приблизившись, он спросил: «Вы Марков?» И, получив утвердительный ответ, солидно представился: «Виктор Артамонович Анисимов! Ваши документы?»
- Я предъявил документы, он внимательно их изучил и вручил мне пропуск.
- — Садитесь в «газон», — сказал Виктор Артамонович.
- По такой жаре мотор нехотя завелся. Спустя минут десять-пятнадцать въехали в новый современный город. Проскочив огромный пустырь, застраиваемый большими домами, по прямой, как стрела, неожиданно оборвавшейся улице, вырвались в степь. Трудно представить себе, что этот пустырь так скоро превратится в красивейшую площадь города, которую назовут именем Королева и на которой поставят памятник Главному конструктору.
- Вот какая она — земля Байконура! Суровая и бескрайняя. Холмистая серо-желтая степь, редкая низкая запыленная трава, белесые солончаки. Иногда вдоль дороги тянулись ярко-красные широкие полосы, пролегали они и по многим холмам.
- — Глины здесь такие, — заметил Анисимов, перехватив мой удивленный взгляд.
- Примерно через полчаса езды взгляду открывается несколько зданий.
- — Наша площадка, — объявляет Виктор Артамонович.
- Машина не сбавляя скорости, мчится по бетонке и резко сворачивает влево, под горку.
- — А вот и ваша гостиница.
- На трехэтажном белом здании вижу табличку с надписью: «Люкс № 2». «Люкс» оказался довольно скромной, непрезентабельной гостиницей, и я сразу понял, что юмор здесь в почете.
- Встречаю своих товарищей, прибывших несколькими днями раньше... Под вечер, когда жара немного спала, ребята повели меня показывать площадку. Подошли к небольшим «финским» домикам, окруженным стройными пирамидальными тополями.
- — Вот гагаринский домик. В нем Юрий Гагарин и Герман Титов ночевали перед стартом 12 апреля. Вот домик Сергея Павловича Королева. Говорят, он скоро приедет.
- Постояли. Помолчали.
- ...Подходил к концу этот радостный день. Спать лег поздно. Долго ворочался. Никак не мог уснуть, хотя полночи и полдня летел и сильно устал от встреч и жары. Волнение не давало уснуть — восемь лет я мечтал о Байконуре... И вот мечта осуществилась.
- Лежу на спине с закрытыми глазами и думаю: «Завтра увижу ракету. Лунный аппарат. Скоро приедет Королев. Надо уснуть. Надо хорошо выспаться. Завтра должен быть бодрым. Как никогда бодрым». А уснуть не могу. Перед глазами отрывками бесконечной киноленты прокручивается жизнь...
- Небольшой заполярный город, утопающий в снежных сугробах. Декабрьский морозный день. Играю с ребятами в футбол перед началом занятий, не подозревая, что за «бомба» в виде яркого журнала «Знание — сила» лежит в портфеле, лихо брошенном у футбольных ворот. Время приближается к двум часам дня, но уже смеркается. Идем в школу, на ходу отряхивая друг друга от снега и шумно обсуждая перипетии матча. На первом же уроке (физики) раскрываю потихоньку журнал и... все вокруг исчезает, проваливается.
- «Сообщение Академии наук СССР о старте межпланетного корабля «Луна-1».
- 25 ноября в 10 часов 00 минут отправился в полет на Луну первый советский межпланетный корабль. Старт состоялся на Кавказе в районе горы Казбек.
- Сбылась вековая мечта человечества...»
- — Марков! А Марков! Да очнись ты наконец!
- Поднимаю голову. Надо мной стоит учительница. Вероятно, я смотрю на нее такими глазами, что она, вместо того, чтобы отчитать меня за постороннее чтение на уроке, тихо спрашивает:
- — Что с тобой, Марков?
- И вдруг я кричу:
- — Мы тут... Сила действия! Сила противодействия! А ракета... Ракета... на Луну... летит! Вот!
- Учительница осторожно берет из моих рук журнал, лицо ее делается серьезным. Класс замирает. Неожиданно она расхохоталась.
- — Посмотри, сообщение за какое число? — Она ткнула пальцем чуть выше сообщения Академии наук. - «Вторник 26 ноября 1974 года», — прочел я.
- - Видишь, 1974 года! А сейчас — 1954-й. Вот что такое читать на уроках!
- Класс качнуло от хохота. Чуть не плача, метнул журнал в парту. В этот день особенно долго тянулись уроки; на переменах ребята просили показать журнал, заходили ученики соседних классов, дружно смеялись: «Смотрите, Марков-то на Луну полетел!» Вернулся домой. Огорченный, все же открываю журнал и вновь зачитываюсь.
- В конце говорилось: «Безусловно, многие из наших читателей примут участие в постройке будущего межпланетного корабля, пошлют на Луну изделия своих рук... Когда это произойдет? Осторожные специалисты полагают, что лет через 50, не раньше. Другие считают, что достаточно лет 20 - 30. Пожалуй, наши юные читатели успеют стать взрослыми, взрослые — состариться...»
- Странно, от этих слов я не расстроился, а даже совсем наоборот, — повеселел. «Может посчастливится... Может, доведется и мне послать на Луну аппарат...». Мечтать так мечтать!
- «Кем быть?» — сомнений не было. Инженером.
- Середина пятидесятых годов: стремительно рвалась в небо реактивная авиация, в быт бурно входило телевидение, делала первые шаги атомная энергетика. Физики были в почете. Молодые люди мечтали посвятить себя науке и технике.
- Сейчас немало говорят о падении престижа технических специальностей. Странно. Разве есть что-нибудь интереснее и почетнее на свете, чем создавать умные машины? Недаром именно с машинами человечество связывает начала целых эпох. Век пара. Век электричества. Век авиации... Самые блестящие идеи останутся бесплодными, если к ним не прикоснется рука инженера. Труд инженеров — розмыслов, как их называли на Руси, — всегда почитался и всегда будет почитаться в народе.
- Я поступил в институт на специальность электрические машины.
- Шумит, колышется заполненный до отказа перрон, звучат гитары, далеко разносятся задорные студенческие песни. На груди у многих солнечным зайчиком поблескивают только что врученные медали «За освоение целины». Первая в жизни награда.
- Уезжали мы с целины под звуки оркестра. Долго не ложились спать. Спеша, перебивая друг друга, делились впечатлениями с ребятами из нашего института, которых не видели целое лето, хотя и работали неподалеку.
- Заснули поздно. Спали крепко, без сновидений и, конечно, не знали, как впрочем не знала еще и Земля, что в эти самые минуты...
- А пока я крепко спал на верхней полке, не ведая, что над Землей восходит новая эра. Космическая. Не знал, что сияние ее зари осветит по-новому лица многих-многих людей, коснется и моей судьбы.
- Проснулся от сильного стука в дверь.
- — Дрыхните, черти! Вставайте! Вставайте, вам говорят! Спутник! Спутник в небе! Наш, советский!
- — Что? Какой спутник? — не можем понять спросонья.
- — Спутник! Включайте радио! Радио включайте! Сообщение ТАСС!
- Включаем. Слышим торжественный голос: «В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника... В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и т. п.)...
- Успешным запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и культуры...».
- Диктор на мгновение замолчал, перевел дыхание: «Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям...».
- Захлопали двери купе. Все высыпали в коридор. Возбужденные, с заспанными глазами слушали еще и еще раз сообщение и сигналы из космоса: бип-бип-бип. Потом развернулись дискуссии. Что только не обсуждали! И почему спутник имеет форму шара и может ли быть другим? И почему он движется по эллиптической орбите и может ли по круговой? Что такое апогей и перигей? Плоскость орбиты и ее наклонение? Сколько он просуществует? Что будет с ним потом?
- Появились немногочисленные бинокли. Вокруг счастливых обладателей образовались группы. По очереди, опустив до отказа вагонные стекла и высунувшись по пояс из окна, подставляя голову ветру, до боли в глазах вглядывались в небо. На каждой стоянке выбегали на перрон и смотрели, смотрели вверх. Признаться, спутника тогда я почему-то не увидел. Едва поезд подходил к большой станции, спрыгивали на платформу, штурмовали киоски. Газеты печатали большой список городов, над которыми пройдет спутник, и время пролета, публиковались комментарии крупнейших советских и зарубежных ученых, полные изумления и восхищения слова рабочих, колхозников, представителей интеллигенции.
- ...Поезд уносил нас все дальше и дальше от целины. Я лежал на полке и думал: «Вот и началось...» Засыпал под стук колес. Вместо привычных тук-тук-тук, рельсы выговаривали: спут-ник, спут-ник, бип-бип-бип.
- Небольшая комната студенческого общежития. Четыре товарища, сидящие у радиоприемника. Еще днем мы узнали, что «Луна-2» ночью достигнет поверхности Луны, и хотя никто из нас не сомневался в законах небесной механики, каждому хотелось «присутствовать» при этом.
- Прекратилась бравурная музыка. Зазвучали позывные «Широка страна моя родная, . .» И наконец необыкновенного тембра голос известил мир о том, что советская космическая ракета достигла Луны. Впервые в истории осуществлен полет с Земли на другое небесное тело...
- ...До утра мы не сомкнули глаз. Говорили о будущих полетах, мечтали, фантазировали. И я решился...
- Как раз перед этим среди старшекурсников объявили набор на новейшую специальность. Прямо не говорили, но прозрачно намекали, что успешно освоившие новую специальность, вполне возможно, будут направлены на работу, связанную с совершенными автоматическими аппаратами, скорее всего, летательными. Не всем хотелось за год до окончания института — рукой подать до диплома — ломать размеренную жизнь, и все же желающих оказалось немало, отбор шел строгий. Окончательное решение принимал директор института. Но для перевода требовалось также согласие заведующего кафедрой. В нашей группе тоже нашлись желающие, однако никто не рискнул пойти к заведующему кафедрой... им являлся сам директор. О его фанатической преданности своей специальности ходили легенды. «А что если возьмет, да не отпустит,- рассуждали между собой ребята, — учиться-то у него придется. Наверняка, косо начнет смотреть. А распределение не за горами».
- ...Директор встретил строгим, как мне показалось, недовольным, жестким взглядом:
- — Что, Марков, тоже за модой погнался?
- — За модой, Николай Сергеевич!
- Он молчал, испытующе глядя прямо в глаза.
- — Ну, что ж, иди! Иди — раз моя специальность тебе не нравится. Неволить не буду.
- В углу заявления размашисто написал: «Разрешаю».
- Заместитель руководителя предприятия по кадрам держал в руках направление и мою характеристику из института.
- — Так куда, сынок, работать пойдем?
- — Наверное, в лабораторию систем управления. Чтоб и теория была, и с паяльником посидеть.
- — Нет, сынок. Запарка нынче у испытателей. Там тебе и наука будет и паяльник. Понравится — останешься. Не найдешь себя там — сам сообразишь, что дальше делать.
- Москва. Май 1965-го года. Теплый, благоухающий безоблачно-синий. Позади четыре года работы испытателем ракет различного назначения. Теперь работаю конструкторском бюро Г. Н. Бабакина...
- Нас собрал Полукаров, заместитель главного конструктора по испытаниям. Незадолго перед этим Сергей Павлович Королев передал конструкторскому бюро Георгия Николаевича Бабакина работы по лунным межпланетным аппаратам. Дело Королева росло и ширилось. Штурм космоса разворачивался широким фронтом. И одному КБ, даже такому мощному, невозможно стало вести весь комплекс космических исследований.
- Выбор на Бабакина и его фирму пал не случайно. Королев знал Георгия Николаевича давно: «Есть в нем искра, есть! — говорил Королев о Бабакине. — Это то человек, которому можно доверить дело. И идей ему не занимать. Светлейшая голова».
- И вот теперь нашей «команде» из десяти человек предстояла поездка на Байконур. Там готовился запуск «Луны-6». Команда подобралась молодая, в основном комсомольского возраста.
- Дмитрий Дмитриевич Полукаров, грузный, суровый, обычно молчаливый, казался нам пожилым. А шел ему в ту пору сорок третий год.
- На коротком совещании он так сформулировал цель поездки: «Чтоб поняли, что к чему», — и надолго замолчал. Потом добавил: «Чтоб сами смогли...» И опять помолчал. «Вопросы?» Поскольку цель была обрисована предельно ясно и четко, вопросов, естественно, не последовало.
- — Вставай, в МИК пора! — трясет за плечо Валя Рубцов.
- — А? Что? Какой миг?
- — МИК... Монтажно-испытательный корпус. С ракетой-носителем знакомиться будем.
- Сон, как рукой, сняло. Побежал умываться. Из крана нехотя бежала тонкой струйкой вода. Вернулся в комнату. Было уже жарко, и очень хотелось пить, Взял графин, а он весь в белых пятнах.
- — Что это?
- — Соль. Привыкай. Это тебе не московская вода.
- Вышли из гостиницы. Было раннее утро, но солнце пекло нещадно.
- На краю площадки высилась большущая «коробка» с воротами во всю стену. К ней примыкало небольшое трехэтажное здание, соединенное с «коробкой» стеклянным переходом на уровне второго этажа. Вошли в зеленый дворик, посреди которого стояла беседка, окруженная невысокими пирамидальными тополями. В беседке — человек десять.
- — Идите сюда! — крикнули нам.
- Здесь находились Полукаров и несколько ребят из нашей «команды». Дмитрий Дмитриевич сказал:
- — Придет Чекунов. Поведет...
- Вскоре подошел человек лет тридцати, огромного роста.
- — Ну, что ж, пошли! — коротко сказал он громким хрипловатым голосом, привыкшим, видимо, перекрывать шум работающей аппаратуры.
- Вошли в огромный зал. Замолкли, потрясенные. Перед нами, на установщике, спокойно и величественно возлежала гигантская ракета — гениальное творение главных конструкторов С. П. Королева, В. П. Глушко, Н. А. Пилюгина, С. А. Косберга, их коллективов, их сподвижников.
- Да, я ничуть не играю громкими словами, называя ее гениальным творением. Есть «Война и мир» Л. Толстого, «Первый концерт» П. Чайковского, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Перед нами предстало произведение «из другой оперы», но также гениальное. Именно она, эта ракета-носитель, достигла первой космической скорости и вывела на орбиту первый искусственный спутник, космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Именно она, эта ракета-носитель, превзошла вторую космическую скорость, и пошли одна за другой автоматические межпланетные станции: «Луна-1», «Венера-1», «Марс-1»... Да, именно с ее стартов человечество ведет отсчет новой космической эры.
- Нынешнему молодому читателю, наверное, трудно представить себе восхищение нашего поколения. Ему, родившемуся двадцать лет назад, ракета-носитель, первый «шарик» кажутся такими же давними, как нам самолет.
- И все же наше состояние понять нетрудно. Достаточно уже развитое профессиональное чутье подсказывало нам, как непросто было спроектировать, изготовить, отработать в полете такую конструкцию, обеспечить надежность работы двигателей, суметь стабилизировать подобную махину, управлять столь необычным летающим «кораблем».
- Ее фотографий тогда не было. Не велись телерепортажи со стартовых площадок. К тому же следует учесть, что вообще предмет в помещении ощущается всегда более внушительным, чем вне его.
- — Видите, — начал свой рассказ Чекунов, — по бокам длинной цилиндрической «сигары» — четыре больших конуса, мы их зовем «боковушками». Все вместе они составляют первую ступень. А центральная «сигара» — это вторая ступень. На этих ступенях установлены кислородно-керосиновые четырехкамерные ракетные двигатели Валентина Петровича Глушко. Каждый двигатель тягой в сто тонн. — Чекунов показал на огромные золотистые сопла, закрытые ярко-красными заглушками. — Четыре камеры на каждый блок. Запускаются сразу все. Как только двигатели выйдут на режим, ракета стартует. Спустя две минуты «боковушки» одновременно отделяются. На небе в этот момент четкий белый крест образуется. Центральный блок продолжает работать еще три минуты и тоже отделяется. Но на мгновение раньше включается двигатель Семена Ариевича Косберга, на третьей ступени. Вот когда эта ступень отработает, станция вместе с четвертой ступенью на околоземную орбиту выходит. Услышите доклад: «Есть промежуточная!» — значит, объект находится на околоземной орбите. А потом уж с промежуточной через полтора часа четвертая ступень запускается. Вот она-то «Луну» к Луне направляет, «Венеру» к Венере...
- После столь краткого обзора пошел детальный разговор: автоматика, массовые характеристики, баллистика, перегрузки, надежность...
- Каждый день пребывания на Байконуре приносил массу впечатлений. Но жара так донимала, что однажды мы упросили Полукарова отпустить нас купаться.
- Посреди голой степи увидели быстрые желтые воды неширокой речки. Входить в мутный, грязноватый поток было не совсем приятно. И все же это была вода! Она несла жизнь бесплодному краю, поила Звездоград и Байконур.
- Спустя несколько лет, накануне старта «Венеры-5», мы ехали с Полукаровым с площадки в город. Стояли жестокие морозы со свирепыми, пронизывающими ветрами. К нам подсел немолодой человек. Полукаров был сильно простужен и все кутался в меховую куртку. Я в сердцах сказал:
- — И какой умник это место для космодрома выбрал! Вон у американцев — прямо у экватора, пальмы вечно зеленые растут.
- Незнакомец встрепенулся и тихо сказал:
- — Я...
- Мы резко повернулись к нему:
- — Вы?!
- Да, я был в группе выбора места для космодрома. Нас перед отъездом напутствовал Сергей Павлович.
- — И чем же вам это место так приглянулось? У нас Крыма что ли нет, иль Кавказа?
- — А давайте порассуждаем немного, — промерзший человек был настроен миролюбиво. — Где космодром выгоднее располагать? Как можно ближе к экватору. Чтоб при разгоне в восточном направлении ракета дополнительную скорость получала. Так? Так... На экваторе эта прибавка равна 465 метрам в секунду, на широте Байконура — 316. Можно было подтянуть южнее, но надо, чтобы падение отработавших ступеней происходило в незаселенных районах. Американцы, кстати, в океан ступени сбрасывают. Кроме того, нельзя не считаться с возможностью аварийных ситуаций на активном участке полета, и желательно, чтобы спуск в этом случае происходил на суше, на своей территории. Пойдем дальше?
- — Пойдем...
- — НИПы надо вдоль трассы расположить? Надо. Протяженность же активного участка — тысячи километров. И это еще не все исходные данные, которые задал нам Королев.
- — Не все?
- — Не все. Энергокоммуникации линии электропередач — раз; водоснабжение — два; количество безоблачных дней в году, влажность, роза ветров — три...
- Вот когда взвесите все это да подсчитаете, — где лучшее место у нас в стране?
- Спорить дальше было бесполезно. Специалист своего дела уложил нас на лопатки.
- — А вот климат, — он вздохнул. — Прямо скажем, неважный. Тут вы правы. Но и в нем, согласитесь, свои плюсы есть. В смысле постоянства, стабильности, сухости. Вы вот с американским полигоном сравнили. А там влажность — будь здоров какая. Люди вечно мокрые ходят. Да и вообще, субтропики такие сюрпризы преподносят! Грозы, торнадо...
- Подошло время изучения лунной машины. В небольшом ажурном стапеле цвета слоновой кости висел аккуратный, совсем небольшой сияющий своими полированными поверхностями аппарат. Его ведущий конструктор Палло знал Сергея Павловича со времен РНИИ, работал с непослушными ЖРД и ускорителями, преподносившими сюрприз за сюрпризом. Свернутый нос — память об одном из таких «сюрпризов». Это случилось в 1942 году при подготовке полета Григория Бахчиванджи на первом ракетном самолете.
- ...Палло и стал нашим гидом.
- — Видите, ребята, там, где перевернутый усеченный конус, — корректирующая тормозная установка. Чтобы компенсировать неизбежные погрешности выведения автоматичской станции и направить ее в нужную точку Луны, траектория полета обязательно корректируется. На Луне нет атмосферы, — продолжал Арвид Владимирович объяснять нам, как школьникам и как людям, неискушенным в космических делах (собственно, таковыми мы и были), — поэтому осуществить торможение можно только ракетным двигателем. Вот здесь — баки окислителя, — показал он на самую толстую часть конуса, — и горючего. Запасы топлива составляют примерно половину массы аппарата. Вот радиовысотомер,- он потрогал чашку антенны.- Как выдаст «75км», так двигатель и включится на торможение. Тут — навесные отсеки: один — с системой астроориентации, другой — с радиосистемой. Перед торможением они, как сослужившие службу, сбрасываются, чтобы двигателю стало легче. В верхней части — система управления. Но учтите, друзья: этот аппарат, — Палло сделал широкий жест, как экскурсовод перед картиной, — лишь часть лунной машины. А вторую ее часть вы сейчас увидите.
- Подождав, пока мы осмотрели лунный аппарат, и ответив на несколько вопросов, Палло повел нас дальше.
- Мы подошли к удобно расположившемуся на специальной подставке небольшому шару, который напоминал цветок с раскрытыми серо-голубоватыми лепестками, золотистыми, серебристыми покрытиями приборов и красными круглыми крышечками.
- — АЛСик, — сказал Палло и с любовью прикоснулся к гладкому лепестку. — А это его телеглаз, — указал Арвид Владимирович на золотистый цилиндрик, увенчивающий «цветок».
- — А где же антенны? — удивленно спросили мы.
- — Они здесь. — Палло показал на четыре коробочки, каждая из которых — чуть больше спичечной.
- Он нажал на едва заметные кнопки и... выскочили ленты, мгновенно свернувшиеся в прочные длинные трубки, торчащие над шариком.
- — А! «Тещин язык»! — первым догадался Саша Дяблов. Я ткнул его в бок, но тут, пожалуй, оказался неправ: действительно, на жаргонном языке техников так называются подобные конструкции.
- Палло продолжал знакомить нас с устройством станции: системой амортизации, системой терморегулирования. Все это показалось нам не таким уж сложным. Но прежний инженерный опыт подсказывал, что есть — не могут не быть! — нюансы, скрытые пока от поверхностного взгляда. И продолжали расспрашивать доброго Арвида Владимировича.
- — Вы сказали: «Направить в нужную точку Луны». Что это значит?
- — Видите, селенологами для первой посадки выбрана равнинная часть Океана Бурь. Дата запуска приурочена к наступлению лунного утра в этом районе. И температура поменьше, и для телесъемки получше — тени контрастнее. К тому ж Луна повыше над земным экватором, значит, радиовидимость с Центра дальней космической связи окажется продолжительнее. Понятно? Если не запустите машину в стартовое «окно», снимите ракету со стартового стола. Ну, а запустите вовремя, все равно орбиту корректировать придется. Точность знаете какая? Ошибка скорости в одну десятую метра в секунду оборачивается пятнадцатью километрами на Луне. Я уж про углы не говорю. Поэтому при выставке оптических приборов, двигателя — юстировке — угловые секунды ловить будете.
- Ничего не скажешь, озадачил нас Арвид Владимирович. — Потом, — продолжал он, — надо сделать так, чтобы станция оказалась в стороне от аппарата, в месте, не затронутом огнем двигателя. Это — в целях науки. А герметичность? Повоюете за нее! Дырка хоть с иголочку будет, а всю атмосферу из отсека высвистит. Посадка хоть и мягкой называется, а все равно несколько метров в секунду набегает. Так что и перегрузки есть! А дырки быть не должно. Ну, да ладно. Обо всем сразу не расскажешь. Посмотрите лучше, как сеанс коррекции идет. — И мы направились в пультовую...
- Так прошло первое, очень краткое, свидание с лунной машиной. А потом началось ее детальное изучение: мы присутствовали на испытаниях, учились телеметрическому языку, сидели над схемами, чертежами, техническими описаниями, инструкциями.
- Чуть свет с радостным чувством мы отправлялись в МИК и только к ночи возвращались в гостиницу.
- ...Как ни интересовало нас все, происходящее в монтажно-испытательном корпусе, нам все-таки очень хотелось поскорее побывать и на стартовой площадке. И вот однажды Дмитрий Дмитриевич сказал нам: «Едем!»
- Небольшой темно-зеленый автобус подвез нас к белому домику, одиноко стоявшему в нескольких километрах от МИКа. Сопровождал нас Борис Семенович Чекунов, ветеран Байконура. Мы уже немного знали о нем. В 1955 году, сразу же после окончания техникума, вслед за первым строительным десантом он приехал на космодром. Собственно, космодрома еще не существовало. Вокруг места, выбранного для космодрома, лежала голая, нетронутая степь. А через два года Боря Чекунов, оператор центрального пульта, нажал кнопку «Зажигание». И пошла в зенит ракета, нежно прикрывая обтекателем небольшой шар с зеркальной поверхностью и прижатыми к нему усами антенн. А потом был второй, третий спутники. Был полет Юрия Гагарина.
- Дорога поднималась вверх. Мы шли не спеша, на ходу перекидываясь словами, смотрели по сторонам. И вдруг, как по команде, смолкли. Справа, в нескольких метрах от дороги, стоял обелиск. Невысокий, строгий прямоугольник. Стелу из розоватого бетона венчал блестящий шар с откинутыми назад антеннами — точная копия космического первенца. На стеле — отлитый из бронзы Государственный герб СССР и темно-серая мраморная доска с высеченными словами: «Здесь гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса (1957 г.)».
- Мы молча стояли у этого скромного обелиска, отдавая дань глубокого уважения героическому поколению первопроходцев космодрома.
- Пройдя сотню метров, мы вступили на бетонные плиты. Бетонные плиты Байконура... По ним совершали свои последние перед взлетом шаги летчики-космонавты. Здесь «они слышали» твердую, уверенную поступь Королева и содрогались от рева ракетных двигателей.
- Большая площадка перед стартовой установкой напоминала солидный железнодорожный разъезд с четырьмя ветками путей. На одной из веток стояли желтые вагоны-цистерны.
- — Заправщик горючим, — сказал Чекунов. — А другие пути — для заправщика окислителем, вагонов термостатирования, подвоза ракеты.
- Стартовая установка представляла внушительное сооружение. Удивительно, огромная конструкция не подавляла, а звала ввысь.
- Как не была высока установка, ее намного превосходили ажурные диверторы — молниеотводы.
- Мы подошли поближе к стартовому устройству. От самой вершины вниз катился лифт. Каждый из нас по очереди поднимался на площадку, откуда прощался с «землянами» перед посадкой в корабль Юрий Гагарин и, на минуту представляя себя космонавтом, махал рукой «провожающим». Стоявшие внизу махали в ответ. Дмитрий Дмитриевич стоял в сторонке и не торопил нас. Его суровое лицо казалось смягченным.
- Чекунов приступил к «ликбезу».
- — В ожидании ракеты фермы обслуживания лежат навзничь, будто спят, а опоры стартовой системы, кабель-заправочная мачта откинуты назад. Установщик бережно подвозит лежащую ракету к стартовому столу двигателями вперед. Начинают работать гидравлические домкраты — они ставят ракету вертикально, «на ноги». Затем опоры подводятся, тут же — фермы обслуживания. Они обнимают ракету, как лепестки цветка Дюймовочку.
- Мы подошли поближе к опорам стартовой системы.
- — А что это? — указали мы на массивные металлические «блины», прикрепленные к нижним частям опор и очень напоминающие гигантскую штангу.
- — Это противовесы, — объяснил Чекунов. — Как только тяга двигателя превзойдет вес ракеты, и она чуть приподнимется, противовесы тотчас откидывают опоры назад. И тогда утолщенное книзу тело ракеты беспрепятственно идет вверх. Понятно?
- Да, просто и остроумно.
- — Мы стоим, — продолжал ветеран космодрома, — на «нулевой отметке» и смотрим вверх. А теперь давайте поглядим вниз.
- Считая, что сейчас спустимся по ступенькам вниз, чтобы ознакомиться с подземными коммуникациями, мы спокойно подошли к концу площадки и... отпрянули назад. Мы стояли на самом краю бездны, отделенные от нее невысокими перильцами. Пропасть сотворила не природа. Котлован вырыли и забетонировали люди. От него отходил широкий, тоже бетонированный, глубокий канал. Берега космодромного канала, его откосы, также были выложены толстыми бетонными плитами, сильно закопченными под стартовой установкой и все более и более светлыми по мере удаления от нее.
- — Газоотводный лоток, — коротко произнес Чекунов. Нам представилась могучая огненная дикая река, ревущая в бетонном ущелье.
- Как бы читая наши мысли, Чекунов сказал:
- — Плиты долго не выдерживают. Приходится менять. Спустились вниз. Взору открылись подземные сооружения, располагавшиеся в несколько этажей. По своей сложности они намного превосходили увиденное наверху. В специальной нише по рельсам перемещалась кабина обслуживания нижней части ракеты. Чекунов повел нас в сторону от стартового устройства, туда, где виднелось поле красной земли.
- Мы спустились по неширокой лестнице в глубь земли метров на пятнадцать.
- Повеяло приятной прохладой, особенно ощутимой после жары, которая крепко донимала нас на открытой бетонной площадке.
- Вошли в длинную комнату, густо «нашпигованную» аппаратурой.
- Я заметил два цилиндра, уходящие в потолок, и сердце екнуло: «Перископы! Как на подлодке!» Подбежал к одному из них, прижался к окуляру, стал вращать рукоятками. Стартовая установка лежала, как на ладони. А за ней бескрайняя, уходящая к горизонту степь...
- — А вот центральный пульт управления, — похлопал по корпусу одного из пультов Борис Чекунов.
- — Борис Семенович! А где та самая-самая, последняя кнопка?
- — Вот она, — показал Чекунов на обыкновенную, величиною с пятак, черною резиновую кнопку.
- — Борис Семенович! Расскажите, как первый ИСЗ запускали... Корабль «Восток...»
- Чекунов, по всему было видно, не любитель предаваться воспоминаниям, да и вообще не словоохотливый рассказчик. Но тут, уступая нашим настойчивым просьбам, сел в то операторское кресло, придвинулся к тому пульту, и сильное волнение, мы легко это заметили, вновь охватило его. И он начал свой рассказ.
- — Ночь опустилась над степью. Только ракета видна, бело-серебристая в свете прожекторов. Время к половине одиннадцатого подошло. Мы, как на вокзале, по московскому отсчет ведем. По байконурскому уже пятое октября наступило. Я за пультом сидел, мы гироскопы давно раскрутили. В бункер входят Королев, другие руководители. Лица строгие, сосредоточенные. Королев сутулится больше обычного, в глазах волнение. Когда до пуска минут пять-шесть осталось, Сергей Павлович сказал заместителю своему, Воскресенскому:
- — Пора!
- Воскресенский стал у одного перископа, у другого — пускающий, начальник наш Александр Иванович Носов — руководитель стартовой команды. Носов на хронометр посматривает и команды отдает. Мы, операторы, только тумблерами щелкаем. И наконец в 22.28:
- — Пуск! — кричит Александр Иванович.
- — Есть пуск! — кричу в ответ и кнопку жму. «Последнюю!»
- Вскоре до подземелья нашего гул донесся... Пошла! Выскочили наверх, а она уж звездочкой меж других звезд стала, и вскоре ее распознать было нельзя. Когда спутник уже был на орбите, услышал: «Бип-бип!» Хоть и готовился к этому, а удивление меня взяло: «Летает! И на Землю не падает!»
- А в тот апрель мне посчастливилось «Восток» запускать. Носова уже не было среди живых. Многие байконуровцы живут сейчас на улице его имени. Пускающим Анатолий Семенович Кириллов стал. Нелегко ему было. Представляете, там, под обтекателем, не металлическая конструкция, не прибор научный. Человек! Симпатичный, улыбчивый Юра Гагарин. На Королева я боялся смотреть. Понимал всю меру, вернее, безмерную его ответственность.
- — И как... вы очень волновались? — не выдерживаем мы.
- — А вы... вы бы не волновались?
- Чекунов счастливо, радостно улыбался.
- ...Несколько дней провел я на стартовой позиции. Захожу в МИК и вижу: все как будто так, и в то же время не так. Пригляделся. Всегда чистые зеленые полы — натерты до блеска, аппаратура горит на солнце. Любители отпускать на космодроме бороды — чисто выбриты, у ракеты и станции точно ветром сдуло всех «лишних» — работают только те, кто нужен в данный момент.
- — Комиссию что ль ждут из столицы? — спрашиваю первого попавшегося знакомого.
- — Ты что, еще не знаешь? СП прилетает! А это, брат, почище любой комиссии! — Товарищ критически оглядел меня с ног до головы.
- «СП» — так за глаза называли Сергея Павловича. Говорили: «СП приказал...», «СП считает...» Весь космодром знал, о ком идет речь. Нам рассказали такой эпизод. Ведущий конструктор первого искусственного спутника Земли, имевшего наименование «ПС» — простейший спутник, очевидно, волнуясь, докладывал Королеву:
- — СП к испытаниям не опоздал. Совместные испытания с ракетой-носителем прошел без замечаний. СП готов к отправке на космодром.
- Главный жестом остановил «докладчика» и тихо, но очень внятно произнес:
- — СП — это я, Сергей Павлович, а наш первый, простейший спутник — это ПС! Прошу не путать.
- Мне довелось однажды стать свидетелем другого случая, связанного с этой аббревиатурой.
- На заседании технического руководства — оно, как правило, предшествует заседанию Государственной комиссии, — когда дошла очередь до представителя стартовой службы он встал, вытянулся и четко, по-военному доложил:
- — СП к приему ракеты-носителя с космическим аппаратом готов!
- Сергей Павлович поморщился:
- — Вам что не известно, что СП называют меня. И я, в отличие от вас, всегда готов не только к приему, но и пуску. А вас попрошу докладывать поточнее.
- — Извините, Сергей Павлович, — смутился бодрый стартовик. И повторил:
- — Стартовая позиция к приему ракеты-носителя с космическим аппаратом готова. Замечаний нет.
- — Вот, то-то же, — проворчал Сергей Павлович.
- А я, когда слышу: «СП», в памяти всплывают вместе Королев и Старт. И в том равном звучании — что-то щемящее, символически единое.
- ...Нас собрал Полукаров.
- — Королев будет... Крут. Чтоб не слышно было... И не видно. А то пешком по шпалам. Ясно?
- Нам было уже предельно ясно. Но для читателя стоит, пожалуй, кое-что уточнить.
- Следует заметить: мы, пользуясь своими правами стажеров — людей, принимающих тему и будущих ее хозяев, — вели себя несколько, я бы сказал, нахально. В процессе испытаний носились из пультовой к станции, от станции к ракете-носителю, лазали по фермам, в общем, стремились в каждый момент оказаться там, где происходили главные события. Мы тормошили, расспрашивали операторов, контролеров, других специалистов. Словом, всем интересовались. Однако ж, вскоре нас предупредили, чтоб мы умерили свой пыл, как только прибудет Королев. Он терпеть не может, когда в рабочих помещениях находятся «лишние». Заметит... и тогда..., как говорилось, «пешком по шпалам». Сие означало откомандирование из Байконура по месту работы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Вот что имел в виду Полукаров, держа перед нами столь эмоциональную речь.
- Королев. Меня бесконечно волнует образ этого человека. Волновал и тогда. В газетах его называли «Главный конструктор». Мы успели немного узнать о его сложной, нелегкой судьбе. И он наперекор судьбе все смог, все превзошел. Стал признанным лидером советских ракетчиков, академиком.
- Еще с детства, со школьной скамьи, любой академик представлялся мне стариком в черном строгом костюме, с длинными седыми волосами, выбивающимися из-под круглой, как тюбетейка, темной шапочки. Этот образ был навеян, очевидно, портретом академика Н. Д. Зелинского, висевшим у нас в школе в химическом кабинете. Учительница никогда не говорила: «Зелинский», а обязательно: «Академик Зелинский».
- Мне не терпелось увидеть Главного конструктора. Несмотря на запрет, я стоял у окна в торце второго этажа. Там, если идти по коридору к окну, слева находился кабинет, на двери которого висела табличка с надписью «Главный конструктор».
- ...Еще раньше, дабы не попасть впросак, обратился к Чекунову.
- — Борис Семенович, а как выглядит Главный?
- Ведь, фотографий его никто не видел, разве кроме проверяющих пропуска (Правда, у него редко кто отваживался спросить: «Ваш пропуск?» — знали в лицо!)
- Чекунов рассмеялся.
- — Королев есть Королев. Не захочешь, а за версту почувствуешь.
- ...По переходу, ведущему из МИКа в пристройку, послышались шаги. Прямо на меня шел человек. Шел быстрыми твердыми шагами, заметно раскачиваясь, но, как сказали бы моряки, не боковой качкой, а как корабль с носа на корму — килевой. Он был не очень высокого роста, плотен, сутуловат, с темными живыми глазами. Одет в песочного цвета с короткими рукавами, рубашку навыпуск и полотняные широкие летние брюки. Во внешности его удивила необычная посадка головы. Крупная, с открытым чистым лбом голова, крепко сидящая на короткой, сильной шее, откинута чуть назад и вправо. Во всем облике, твердой, энергичной походке чувствовалось что-то кряжистое, могучее.
- Берясь за рукоятку двери, человек в упор посмотрел на меня, резко спросил:
- — Вы чей?
- Вопрос удивил. Но тотчас я вспомнил: здесь было принято работников КБ Королева называть королевцами, Пилюгина — пилюгинцами.
- — Георгия Николаевича Бабакина.
- — А что вы делаете здесь, у дверей моего кабинета?
- На меня смотрели темно-карие пронизывающие насквозь глаза. Вопрос однако ж прозвучал в несколько более смягченном тоне.
- — Пытаюсь связаться с фирмой, — быстро сообразил я. В кабинете Сергея Павловича находился аппарат ВЧ-связи, и Полукаров иногда связывался с Бабакиным.
- — Заходите! — Королев, проходя к столу, взмахом руки указал на кресло, стоящее справа. Снял трубку.
- — Тамарочка! Соедини-ка с Василием Павловичем! А потом дашь Бабакина.
- Королев переговорил со своим заместителем о срочной присылке уточнений к программе полета, положил трубку. Телефон тут же зазвонил снова.
- — Возьмите! — Протянул трубку.
- — Кто это, кто это? — услышал звонкий знакомый голос Лидии Ивановны, секретаря главного.
- — Лидия Ивановна! Это я, Марков! Соедините срочно с Георгием Николаевичем.
- Сам лихорадочно соображаю, о чем же буду с ним говорить.
- — Георгия Николаевича нет! Он к Келдышу уехал.
- — Нет Георгия Николаевича. В Академию, к Мстиславу Всеволодовичу только что выехал, — делая огорченный вид, вздохнул я. Поднялся, собираясь спешно ретироваться, но Королев взмахом руки опустил меня в кресло.
- — Так, значит, к космосу подключаетесь? Как у вас на фирме отнеслись к этому?
- — По-разному, Сергей Павлович. Мы, молодежь, с энтузиазмом. «Старички» еще не определились.
- — «Старички»! — вспыхнул Королев. — Что они понимают, ваши «старички»! — Видно, его сильно задело. — Самолет летает у земли и оторваться от нее не может. А здесь же предела нет! Вы — разведчиками будете. А затем к звездам аппараты пошлете. Не веришь? Придет время — вашей фирме и этим придется заняться. Я-то не доживу, а ты вполне может быть.
- «Мы — молодежь!» — поддел он меня. — Кстати, сколько тебе лет?
- — Двадцать семь.
- — Двадцать семь? И все молодежью себя называешь. Это, брат, очень зрелый возраст. Я уж ракеты пускал.
- — Я тоже четыре года ракеты пускал, — вставил я, видя его дружеское расположение.
- Сергей Павлович усмехнулся.
- — Надо же! Какие?
- Я коротко рассказал.
- Во время рассказа Королев, довольный, слегка улыбался, в глазах сверкали искорки.
- — Небось страшновато бывало?
- — По всякому, Сергей Павлович. Бывало и страшновато.
- В кабинет стремительно вошел технический руководитель испытаний А. И. Осташев, держа в руках несколько листков с отпечатанным на машинке текстом.
- — Подписать надо, Сергей Павлович!
- — Ладно, — сказал мне Королев, — иди! Изучай машину как следует. Ее впитать в себя надо. Впи-тать!
Осознал? И когда я, облегченно вздыхая: «Пронесло!», уже подходил к двери, он добавил слова, от которых меня дернуло, как током:
- — И чтоб больше без дела я вас здесь не видел!
- Выскочил за дверь. Вытер со лба испарину. Помчался бегом в пультовую, занял свое рабочее место — по левую сторону от оператора центрального пульта объекта, надел наушники. Сидящий по правую руку оператора, у индикаторов системы управления, Валя Рубцов зашептал:
- — Где тебя черти носят? Говорят, Королев приехал. Нарвался бы на него!
- — Валюша! Если бы ты знал... Вечером все расскажу.
- Смотрю в инструкцию, на показания приборов, слушаю переговоры операторов. Спустя несколько минут боковым зрением через открытую дверь пультовой вижу: в зал в сопровождении Осташева входит Королев. Шел он не спеша, зорко посматривая по сторонам. Подошел к ракете-носителю, что-то сказал Осташеву, похлопал «боковушку» по обшивке. Порядок в зале был образцовый, воздушные шланги, электрические кабели, жгуты тщательно уложены, прибандажированы. Королев все же заметил какой-то, по его мнению, непорядок, потому что, сделав круговые вращения указательным пальцем, показал на какой-то кабель. Рабочий-бортовик бросился спешно его переукладывать: очевидно, Королев обнаружил скрутку. По всему чувствовалось — приехал хозяин.
- Жалобно заскрипели половицы деревянной лестницы. В пультовую поднялся Королев. В большой комнате — тишина. Операторы, контролеры, специалисты по системам аппарата сидят, впившись глазами в приборы. Тишину прерывают лишь резкие, четкие указания руководителя испытаний, доклады операторов. Королев придвинулся к центральному пульту, встал у нас за спиной. У меня по коже забегали мурашки: вдруг он скажет Полукарову, что его люди шатаются по МИКу без дела, когда обязаны присутствовать на сеансе. Я невольно посмотрел на Королева. Наверное, он что-то заметил в моем взгляде, потому что с хитринкой улыбнулся одними глазами и затем едва заметным движением показал: смотри, дескать, не на меня, а на пульт. Он о чем-то шепотом спросил у Осташева, тот также тихо ответил. Королев мягкими шагами покинул пультовую.
- В предстартовые дни Полукаров взял меня с собой на заседание технического руководства. Запомнилось содержательное, убедительное, глубоко аргументированное выступление одного из руководителей. Закончил он следующими словами:
- — Итак, 8 июня планируется пуск «Луны-6». А полет «Луны-5» завершился, а как он завершился, вы знаете — 12 мая. Ведь, месяца не прошло. Я не уверен, что полученный большой объем информации тщательно проанализирован, результаты анализа учтены. Не пора ли, Сергей Павлович, остановиться, оглянуться...
- Королев поднял голову, миролюбиво сказал:
- — Александр Ваганович, ты прав. Но мне информация позарез нужна. Понимаешь, позарез. А как ее набрать, не летая?
- Затем Королев, глубоко вздохнув, тихо сказал:
- — Летать трудно. — Развел горестно руками. — Летать надо. — И вдруг, стукнув по столу ребром ладони правой руки, — характер все же не мог не дать о себе знать! — совсем «по королевски» отрубил: — Летать будем!
- За те восемь месяцев, когда встречал его довольно часто — на заводе, космодроме, в Центре дальней космической связи — Королев запомнился спокойным, уверенным человеком. Поэтому рассказам о его страшных разносах не то, чтобы не верил, а просто считал их преувеличенными.
- Однажды поделился своими мыслями с А. Ивановым — он-то пятнадцать лет бок о бок проработал с Королевым.
- — И ты прав, — сказал он, — и те, кто рассказывает о взрывчатости Главного, о его сногсшибательных разносах, тоже правы.
- Каким же он был в действительности? Королев был очень разным. Очень сложным.
- Но что интересно! В действительности наказывал он чрезвычайно редко, когда дальше было, как говорится, некуда. Поговорите с его ближайшими помощниками — им-то в силу «короткого расстояния» доставалось больше всех, «девятый вал» чаще, чем другим, приходилось принимать на себя — они в один голос утверждают: годы, проведенные рядом с Сергеем Павловичем Королевым, самые значительные, самые счастливые в их жизни.
- Наказывал редко, а защищал всегда. Ругал иногда, а заботился всегда. И забота была горячей, действенной.
- Когда дела шли хорошо, он говорил вышестоящему начальству: это у меня Петров (или Сидоров) молодцом сработал. А когда случались аварии и соответствующие высокие лица строго спрашивали: «И кто это у тебя двигателями занимается?». Он твердо отвечал: «Я!» «А управлением?»- «Я!» За его широкой спиной, в прямом и переносном смысле, людям жилось и работалось уверенно.
- Как-то спросил Алексея Иванова: «Что родилось раньше — железный авторитет, а потом это «я», или наоборот?» Алексей ответил так:
- — Королев потому и стал Королевым, что никогда не прятался за чужие спины.
- Едва ли не о главной черте в образе Сергея Павловича ближе всего я нашел у Василия Макаровича Шукшина в его романе «Я пришел дать вам волю» о Стеньке Разине: «Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русские уважают сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата: есть кому одернуть, но и пожалеть и заступиться тоже есть кому... Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили».
- На рассвете вывозили ракету на старт. Огромные ворота МИКа распахнуты настежь. Солнце, чуть приподнявшись над степью, золотит срез ракетных двигателей. Ярким, теплым, прозрачным рубином светятся камеры сгорания.
- Мы поднялись ни свет ни заря, но оказались не первыми. Пыхтел тепловоз. У ворот, щурясь на солнце, стоял Королев. Рядом с ним его заместитель по испытаниям, Осташев, Анатолий Семенович Кириллов, один из руководителей космодрома, Дмитрий Дмитриевич Полукаров. Сергей Павлович, энергично жестикулируя, о чем-то увлеченно рассказывал, слушатели остро реагировали. Мы остановились на почтительном расстоянии. Королев махнул рукой:
- — Идите сюда.